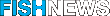— Роман Сергеевич, если говорить о российской аквакультуре в целом, какие вопросы вы бы отметили как особенно значимые?
— В конце октября я с разницей буквально в один день принял участие в заседании правления Росрыбхоза, а затем в парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных развитию аквакультуры. Представители Росрыболовства и Минсельхоза озвучили большое количество проблемных вопросов. Бросилась в глаза негативная тенденция — создание новых административных барьеров на местах. Причем эта проблема оказалась характерна для самых разных регионов.
В Астраханской области, например, оказалась под угрозой работа крупных осетровых хозяйств в судоходных шлюзах неиспользуемого вододелителя: к предприятиям возникли вопросы со стороны контролирующих органов. Прудовых рыбоводов Подмосковья хотят заставить построить дорогостоящие очистные сооружения, хотя фактически эти хозяйства воду не загрязняют.
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов затронул очень важный вопрос, связанный с компонентом информационной системы «ВетИС» — «Меркурий»: там можно формировать несколько площадок в привязке к одному пользователю, причем даже без его ведома. И злоумышленники пользуются такой лазейкой: создают фейковые площадки, через которые проводят продукцию от имени реального предприятия. А когда нарушения выявляют, контролирующие органы предъявляют претензии добросовестной компании.
Затронули и «аномалию» Приморья, на которую и ранее обращали внимание, — большой объем выращивания товарной продукции и маленький объем ее реализации. Президент ВАРПЭ Герман Зверев поднял проблему, связанную с природоохранным законодательством.
— А можно ли отметить какие-то позитивные изменения?
— Положительный момент, что регулятор в курсе практически всех проблем предприятий аквакультуры, в том числе тех, которые поднимал наш союз. То, что руководство отрасли о них знает и понимает — уже повод для оптимизма. Единственное, хотелось бы все-таки услышать: как все будет решаться, в какие сроки, кто будет ответственным? Я имею в виду, например, дорожную карту для развития аквакультуры, сформировать которую ДВ СПМ предлагает не первый год.
— Вам, как представителю дальневосточной аквакультуры, надо полагать, наиболее близки вопросы именно Дальнего Востока. Как там сейчас обстоят дела с марикультурой?
— По количеству мариферм в ДФО лидирует, конечно, Приморье. Край активно развивается — например, сейчас готовится проект нового генплана Хасанского муниципального округа. На юге региона сконцентрированы и марикультурные хозяйства, и локации для рекреации, пляжного отдыха. Развивать туристический бизнес важно, но при проработке документа не были учтены интересы действующих предприятий марикультуры. Для защиты этих интересов ДВ СПМ направил свои предложения муниципальным и региональным властям, Росрыболовству, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Работа ведется, надеемся, что будут приняты положительные решения.
Отмечу, что успешные шаги в развитии марикультуры делаются и в Сахалинской области. Приход туда крупных инвесторов я считаю однозначно позитивным фактором: это и увеличит объемы производства ценных морепродуктов, и дополнительно простимулирует донастройку отраслевого законодательства. Хочется, чтобы островной регион учел опыт Приморского края, чтобы не повторить наших ошибок.
— Вы неоднократно подчеркивали, что нужно повышать эффективность дальневосточной марикультуры. Озвучивали необходимость поддержки со стороны регулятора и ревизии отрасли. А если поговорить о более глобальных методах, механизмах?
— Объемы реализации продукции марикультуры не изменились по сравнению с временами до принятия закона об аквакультуре, когда участков было в разы меньше. При этом подчеркну: потенциал никуда не делся, надо менять подход регулятора к пользователям. Требуются переосмысление, донастройка и перезапуск.
Что конкретно делать? Во-первых, устанавливать новую минимальную площадь участков — уходить от 100 га к 200 га. Большие участки — большая экономика. А какая экономика на 100 га?
Во-вторых, для РВУ площадью свыше 2 тыс. га нужно предусмотреть механизм передачи их пользователю без аукционов. Но в договоре должны быть прописаны обязательства по реализации конкретного проекта и, что очень важно, банковские гарантии.
Ведь у нас до сих пор в марикультуре нет ни одного крупного проекта с привлечением иностранного капитала. Причины и в климате (тайфуны часто губят гидробионты), и в дефиците кадров, и в кражах урожаев, но главное — инвесторы не понимают, почему они должны изначально платить огромные деньги, чтобы затем еще и вложиться в рискованный проект с «долгой» выручкой.
Кроме того, замечу: до сих пор нет порядка расформирования РВУ! Минсельхоз должен разработать такой порядок — чтобы участок, показавший свою неэффективность, можно было ликвидировать и, например, создать на этой акватории РВУ другой площади и конфигурации.
Также пока нельзя корректировать места расположения участков. ДВ СПМ вместе с компанией «Инарктика» предлагал ввести такой механизм: дать пользователям возможность переместить границы РВУ на акватории без изменения его площади. Это необходимо, если на полученном участке не везде подходят условия для выращивания гидробионтов. В районах, где рядом невозможно сформировать новые участки, такая процедура вполне оправдана. В октябре Совфед рекомендовал правительству проработать этот вопрос.
Нужно обратить внимание и на такой тонкий момент: федеральные власти требуют от прибрежных регионов развития аквакультуры, но соответствующих полномочий у субъектов Федерации довольно мало. Наверное, следует как-то обеспечить этот баланс.
— Я так понимаю, нереализованным остается и ряд инициатив союза по улучшению сервиса «Аквавосток»?
— Да, пока можно сказать, что «Аквавосток» — как чемодан без ручки: бросить жалко, а использовать неудобно.
Так, до сих пор не перешли от квадратно-гнездового метода создания участков к контурному, хотя профильные ведомства давно признали такую необходимость.
Давно не делали актуализацию перечня доступных акваторий, причем как раз с точки зрения возможности именно контурного формирования. Кроме того, нужно исключить те участки, где ведется промысел, — чтобы не допускать конфликта интересов между рыбаками и рыбоводами.
Еще один важный момент — на интерактивной карте должны отображаться только пригодные для марикультуры акватории, а не «потенциально возможные». Потому что выглядят они на «Аквавостоке», конечно, красиво, но на практике никому не нужен участок далеко от берега и на глубинах свыше 20 м.
Про буферную зону и ряд других вопросов я не раз говорил ранее — все это до сих пор не реализовано.
— В прошлом году из объектов государственной экологической экспертизы исключили пастбищную аквакультуру. На ваш взгляд — есть что еще улучшать в этой сфере?
— Изменения, конечно, положительные, но мы по-прежнему совместно с коллегами выступаем за отмену ГЭЭ для предприятий марикультуры всех типов. Это в идеале.
Если же смотреть на вещи более реалистично, то на сегодняшний день было бы наиболее перспективно объединять в один объект экспертизы несколько участков, расположенных рядом, в одной бухте или заливе. А заказчиками ГЭЭ могли бы выступать отраслевые бизнес-объединения. Это бы значительно упростило и удешевило процедуру.
Напомню, что успешно реализована другая наша инициатива — срок действия положительного заключения ГЭЭ равен сроку действия договора пользования. Нужно только, чтобы была составлена соответствующая программа работы на весь период. И, если производственные процессы не меняются, можно при перезаключении договора продлить и действие заключения.
Не могу не отметить, что у аквафермеров сложилось продуктивное взаимодействие с Росрыболовством в части прохождения экспертизы — ведомство готово оказывать поддержку предприятиям в случае возникновения, например, разногласий с Росприроднадзором. Единственное условие — документация должна быть оформлена надлежащим образом.
— К вопросу о зарубежных инвестициях — как вы относитесь к инициативе Федеральной антимонопольной службы включить аквакультуру в список видов деятельности, на которые распространяется особое регулирование по закону о контроле иностранных инвестиций?
— Целесообразность этого вызывает вопросы. Особенно на фоне того, что, как я уже говорил, у нас не стоит очередь из зарубежных бизнесменов, желающих инвестировать в аквакультуру РФ.
Актив государства — вода, которую предоставляют временно, сам участок, а не водные биоресурсы в нем. Считаю, что у государства и так достаточно рычагов для регулирования нашей подотрасли, в том числе участия в ней иностранных инвесторов.
— Проблема браконьерства и хищений гидробионтов с участков по-прежнему актуальна?
— Конечно. Причем один из самых эффективных способов борьбы — перекрывать сбыт. Сейчас в нашем таможенном законодательстве существует пробел, позволяющий свободно вывозить за границу в частном порядке по 5 кг трепанга на человека (как и других морепродуктов и рыбы), якобы для личного потребления. Таким способом через физических лиц переправляется в том числе продукция из трепанга непромышленного изготовления. И это при том, что добыча «морского огурца» в дикой природе в Приморье полностью запрещена.
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края предложило профильному департаменту Минсельхоза РФ убрать лазейку. То есть предусмотреть, что вывоз трепанга разрешается, но только как продукции промышленного производства с полным пакетом ветеринарно-сопроводительных документов. ДВ СПМ поддерживает эту инициативу. Кроме того, совместно с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья мы рекомендуем установить такую же меру в отношении вывоза икры морского ежа физическими лицами.
Напомню, что успешно действует эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки самолетами — так в крае ставят заслон лососевому браконьерству. Пора подумать и о сбережении других ценных гидробионтов Дальнего Востока похожими способами.
— А какие вопросы могут стать для марифермеров актуальными в будущем?
— В этом плане хочу немного сказать про обязанность по производственному контролю. По закону она будет закрепляться за пользователями рыболовных участков в новых договорах, но аналогичную норму могут ввести и для предприятий аквакультуры.
К уже утвержденным полномочиям производственных инспекторов необходимо добавить право изъятия незаконно установленных орудий лова в границах участка. Причем с составлением соответствующего акта и передачей изъятого сотрудникам рыбоохраны или пограничникам.
И, безусловно, мы считаем важным наделить таких инспекторов определенным статусом защиты со стороны государства. Ведь обычно рыболовные и рыбоводные участки расположены на удалении от населенных пунктов и, соответственно, риски противоправных действий в отношении должностных лиц, осуществляющих производственный контроль, достаточно высоки.
Также необходимо прописать, что производственный контроль на РВУ осуществляется в части выявления нарушений не только в области аквакультуры, но и в области рыболовства и сохранения ВБР. Ведь зачастую трудно определить, ведет нарушитель браконьерский промысел или просто ворует выращенные гидробионты.
Я обсуждал эту тему с президентом Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максимом Козловым (он поднимал этот вопрос на Сахалинском рыбохозяйственном совете в прошлом году), исполнительным директором Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кириллом Проскуряковым и с главой Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгием Мартыновым. Согласованная позиция ДВ СПМ направлена в Росрыбхоз и профильный департамент Минсельхоза.
— Росрыбхоз, как я понимаю, остается важной площадкой для Дальневосточного союза предприятий марикультуры?
— Безусловно, эта ассоциация достаточно эффективно решает проблемы отрасли. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить председателя правления ассоциации Василия Дмитриевича Глущенко с юбилеем. Нам повезло жить в эпоху такого, без преувеличения, великого человека и настоящего авторитета отрасли, я ценю возможность обращаться к его знаниям и опыту. Василий Дмитриевич — как ледокол, и большая удача идти за ним в кильватере.
Хочу отметить эффективность работы и Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, и, конечно, Общественного совета при Росрыболовстве. В прошлом году я вошел в обновленный состав ОС, так что продолжу поднимать проблемы аквакультуры в том числе на этих площадках.
Планируется провести выездное заседание Общественного совета во Владивостоке — будем обсуждать вопросы марикультуры с участием регионов, профильных ведомств, Общественной палаты. Так что работа продолжается!
Алексей СЕРЕДА, Fishnews
Февраль 2025 г.